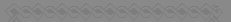Кризис, как и любая экстремальная ситуация, обнажает скрытые
достоинства и недостатки. Чем дальше, тем больше мы видим спрятанных в
шкафу скелетов. В Европе кризис первым ударил по Исландии. Теперь
внимание многих европейцев приковано к ситуации в развивающихся странах
Старого Света, в частности, прибалтийских государствах.
Столкнувшись с самым серьезным финансовым и экономическим кризисом
за последнее столетие, правительства развитых и развивающих стран, как
по команде, делают одно и тоже: снижают базисные ставки, массированно
вливают ликвидность в финансовый сектор, широко предоставляют налоговые
льготы, стремятся ослабить национальную валюту. Но существует ряд
стран, которые выбрали свой специфический путь выхода из кризиса. И эти
страны являются нашими ближайшими соседями. Это страны Прибалтики:
Латвия, Литва и Эстония.
В чем же специфика преодоления кризиса по-прибалтийски? Она
заключается в отказе от девальвации валют (в нашем случае, по отношению
к евро) и стимулировании экономики за счет увеличения бюджетного
дефицита. А также в проведении политики повышения налогов, прежде
всего, НДС, в открытом снижении зарплат в государственном секторе,
резком сокращении расходов на все социальные программы и замораживании
пенсий, которые и так являются одними из самых низких в объединенной
Европе.
Латвия: вторая в списке
Как известно, первым европейским государством, фактически объявившим
дефолт, стала Исландия. «Почетное» второе место заняла Латвия.
Представители латвийского правительства прямо заявляли, что без
получения экстренной помощи от Международного валютного фонда и
Евросоюза в размере 7,5 млрд евро стране не удалось бы избежать
финансового коллапса уже в ближайшие месяцы. По всей видимости, этот
кредит будет не последним в наступившем году. И это при том, что все
население Латвии насчитывает 2,3 млн человек.
Экономическое развитие Латвии было одним из самых быстрых в Европе в
новом веке. Особенно оно ускорилось после 2004 года, когда страна стала
членом ЕС. Вплоть до 2008 года темпы роста ВВП страны достигали
двузначных значений. В реальности же рост внутреннего потребления носил
чисто спекулятивный характер. Он был основан, как уже говорилось выше,
на приходе длинных европейских денег и направлялся прежде всего не на
развитие каких-либо секторов промышленности, сельского хозяйства или
услуг, а на ипотечное и другие виды потребительского кредитования. В
данных условиях финансовый кризис, который проявился в уходе
иностранных инвестиций из страны, не мог не привести к концу
экономического процветания Латвии.
Депрессия в Латвии началась значительно раньше, чем в большинстве
европейских стран — уже во II квартале 2008 года, однако, скорее всего,
Риге удалось завершить прошедший год с положительными цифрами по
динамике ВВП. Но 2009 год, по прогнозам самого правительства, должен
стать обвальным. ВВП снизится на 5%, а бюджетный дефицит вырастет на те
же 5%. Европейская комиссия делает еще более неутешительные прогнозы —
по ее версии падение составит 6,9%. При этом инфляция будет лишь
усиливаться — правительство надеется, что она не превысит 10,5%, а это
означает, что не удастся сколь-нибудь значительно снизить ставку
рефинансирования. Прибавим к этому снижение зарплат, повышение налогов,
рост безработицы — и вот он, кризис.
Ну а каковы в текущих условиях действия правительства и Центробанка?
Возможность для маневра у них крайне мала, и без финансовой поддержки
Европы и США все их усилия обречены на провал. Даже если бы латвийский
лат не был бы жестко привязан к евро, латвийское правительство не могло
бы пойти на девальвацию своей валюты, так как это привело бы к резкому
повышению стоимости заемных прежде всего ипотечных средств. Кроме того,
увеличился бы и торговый дефицит, так как значительную часть импорта
составляют энергоносители, а сокращение его физического объема
представляется мало достижимым.
В этих условиях латвийский центральный банк сделал единственное, что
было в его силах: снизил ставку по депозитам для банков с 3% до 2%. Но
ни один эксперт не выразил восхищения этим ходом и не предсказал, что
он приведет к росту предложений на кредитном рынке страны. Рига
планирует войти в зону евро в 2012 году. Скорее всего, ей это удастся.
Только вот какой к этому времени у нее будет объем госдолга на душу
населения, да и не уменьшится ли само население страны — это большой
вопрос.
Эстония: вопреки традиции
Медлительность эстонцев стала основой для массы анекдотов об этой
прибалтийской стране. Однако развитие экономической ситуации в
настоящий момент заставляет поверить, что временами эстонцы не так уж и
медлительны. К сожалению, лучше бы они не изменяли себе. «Опоздав» с
началом рецессии по сравнению с Латвией, к концу года Эстония
существенно опередила последнюю по темпам падения.
В ноябре 2008 года промышленное производство страны упало на 7,7% по
сравнению с предыдущим месяцем и на 17,7% по сравнению с 2007 годом. В
декабре падение продолжилось на 0,5% и 11% соответственно. Причиной
этого стало резкое снижение (9,5%) внутреннего спроса и не менее резкое
сокращение экспорта (8,9%). Только в декабре прошлого года он
уменьшился на 27%, в то время как импорт вырос на 19%. По прогнозу
эстонского центробанка, сжатие ВВП страны в 2008 году превысит 5,5%, а
в 2009 году — еще на 3,5%. Дефицит торгового баланса сохранится на
протяжении всего 2009 года.
В банковской сфере результаты также не радужные. В конце года
наметился стремительный рост просроченной задолженности в эстонских
банках — он вырос до 8,1%. И основой увеличения этого негативного
показателя стали ипотечные кредиты.
Несмотря на столь не обнадеживающие результаты, эстонские монетарные
власти проявляют удивительное спокойствие и даже противопоставляют
ситуацию в своей стране тому, что происходит в соседней Латвии. Таллин
даже позволяет себе говорить, что он не будет принимать финансовую
помощь на латвийских условиях. Столь странная постановка вопроса
объясняется довольно просто. В Эстонии попросту отсутствует
национальный финансовый сектор. Более 90% его контролируют шведские
банковские группы, прежде всего, Swedbank, а для них ни общий объем
кредитов, выданных в Эстонии, ни предполагаемый бюджетный дефицит
страны в размере 5 млрд крон (примерно 450 млн долларов) не
представляется существенным.
Эстонское руководство прямо заявляет, что ему не удастся обойтись в
2009 году без серьезных заимствований. Но финансовую политику оно
строит с опорой на Швецию, которая демонстрирует твердое намерение не
оставить Таллин в беде и помочь ему войти в 2012 году в зону евро.
Литва: «прибалтийская бухта спокойствия»
Сохранение бюджетного дефицита в приемлемых размерах является, по
существу, единственным экономическим преимуществом Литовской республики
перед своими соседями. В 2008 году он составил 2,9% от ВВП, а в 2009
году Европейская комиссия ожидает, что он не превысит 3%. В отношении
других параметров Литва соответствует общим прибалтийским показателям.
Экономика с IV квартала вошла в рецессию (в декабре ВВП упал на 1,5%,
промышленное производство — на 4,4%), дефицит платежного баланса
составил 638,8 млн лит (245,2 млн долларов) и это несмотря на резкое
сокращение импорта в связи с падением спроса. ВВП в будущем году
обещает сократиться более чем на 4,8%, что повлечет за собой
соответствующее сокращение спроса.
По мнению большинства экспертов, Литве не удастся избежать крупных
заимствований для смягчения экономического падения. Об этом говорят и
интенсивные переговоры властей страны с Евросоюзом и МВФ о
предоставлении кредита на 1 млрд долларов. Скорее всего, он будет
предоставлен уже в первом квартале текущего года. Тем более что Вильнюс
уже выполнил требования по повышению налогов, которые обычно
предъявляет Евросоюз и МВФ при предоставлении подобных займов. Только в
декабре стоимость электричества, газа, других видов горючего,
содержание домов выросло на 23,3%, продукты питания — на 10,9%, табак и
алкоголь — на 15,3%. Конечно, темпы падения жизненного уровня основной
массы населения в 2009 году уменьшатся, но оно уже не будет строить
радужных надежд при присоединение к зоне евро, как при вхождении в ЕС.
Выход прибалтийских государств 17 лет назад из состава СССР не
привел к приобретению ими реальной независимости. Возможно, они и не
узнают, что такое действительная государственная самостоятельность,
превратившись в «неотъемлемую» часть объединенной Европы.
|