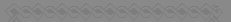| В четверг в Таллиннском университете начнется ежегодная Международная
конференция молодых филологов. По традиции на каждую из них в качестве
научного «застрельщика» приглашаются известные специалисты из других
стран. На этот раз конференцию почтила своим присутствием Елена
Владимировна Душечкина, доктор филологических наук, профессор кафедры
истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного
университета, автор монографий "Стилистика русской бытовой повести XVII
века (Повесть о Фроле Скобееве)", "Русский святочный рассказ:
Становление жанра"; "Русская елка: История, мифология, литература". В
пятницу она выступит в Таллиннском университете с открытой лекцией о
Петербурге, а накануне она рассказала организаторам о своих связях с
Эстонией и своих литературоведческих интересах. - Что вас связывает с Эстонией? Как вы чувствуете себя теперь, возвращаясь в эту страну?
 - С Эстонией меня связывает почти 40 лет прожитой здесь жизни. Это,
пожалуй, и есть самый полный ответ на ваш вопрос. Школа, работа на одном
из таллиннских заводах, учеба, затем преподавание в Тартуском, а позже в
Таллиннском (тогда еще) педагогическом институте. Как вы думаете, что
это может значить для меня? Эстония – мое отрочество, моя молодость и
зрелость. Становление меня как личности. Во многом именно через Эстонию
произошло осмысление мною жизни, осознание важнейших проблем нашего
бытия. Было много неудач, но было много и удач. Одна из важнейших удач –
встреча с Юрием Михайловичем Лотманом. Это событие моей жизни трудно
переоценить. - С Эстонией меня связывает почти 40 лет прожитой здесь жизни. Это,
пожалуй, и есть самый полный ответ на ваш вопрос. Школа, работа на одном
из таллиннских заводах, учеба, затем преподавание в Тартуском, а позже в
Таллиннском (тогда еще) педагогическом институте. Как вы думаете, что
это может значить для меня? Эстония – мое отрочество, моя молодость и
зрелость. Становление меня как личности. Во многом именно через Эстонию
произошло осмысление мною жизни, осознание важнейших проблем нашего
бытия. Было много неудач, но было много и удач. Одна из важнейших удач –
встреча с Юрием Михайловичем Лотманом. Это событие моей жизни трудно
переоценить. - Елена Владимировна, как почетный гость Таллинского
университета и уважаемый дискуссант Конференции молодых филологов,
каковы ваши ожидания от предстоящего визита в Таллинн?
- Спасибо за звание «почетного гостя». Не знаю, в какой степени я его
заслужила. Спасибо и за предоставленную мне возможность еще раз побывать
в Таллине. Это для меня всегда большое переживание и большая радость.
Что же касается моих ожиданий от этой поездки и участия в конференции,
то я уверена, что разочарования не будет. Во-первых, на протяжении почти
полугода я переписывалась с организаторами конференции, и эта переписка
убедила меня в серьезности и тщательности ее подготовки. Во-вторых,
присланные мне тезисы докладов, с которыми я ознакомилась,
свидетельствуют о том, что меня ожидает интересное научное мероприятие.
Поверьте, что я, часто участвуя в самых различных конференциях и
семинарах, редко встречалась с такой основательной их подготовкой и
продуманностью. - Расскажите, пожалуйста, немного об открытой лекции, которую
вы собираетесь прочитать в стенах нашего университета. Чем обусловлен
ваш выбор?
- Я послала несколько тем на выбор для моей открытой лекции.
Организаторы конференции выбрали одну из них: «Петербург в восприятии
Чехова». Так что, в конечном счете, выбор был определен не мною. Но я с
большим удовольствием ее прочитаю. Тема выросла из работы над большой
статьей в уникальное издание «Три века Санкт-Петербурга» – многотомную
энциклопедию, которую на протяжении двенадцати лет выпускает
филологический факультет Петербургского университета. Вышло уже 10 томов
(два тома по XVIII веку и восемь по XIX) (некоторые из них занимают до
1000 страниц). Сейчас коллектив энциклопедии приступает к работе над ХХ
веком. Это невероятно смелый замысел. И вот для этого издания я писала
статью о Чехове и Петербурге: о том, чем Петербург был для Чехова, чем
Чехов был для Петербурга, как Петербург отразился в творчестве Чехова.
Это была для меня очень интересная работа. - Вы – профессор кафедры истории русской литературы
Санкт-Петербургского Государственного Университета; глядя на своих
студентов, как вы оцениваете перспективы науки?
- Вы знаете, я преподаю в высших учебных заведениях более сорока лет. Я
работала в трех университетах, и всегда на каждом курсе встречала как
интересных, заинтересованных и способных студентов, так, и менее
способных и менее заинтересованных в изучаемом материале.
Заинтересованные и способные нередко шли в науку. С тем же я встречаюсь и
сейчас. Здесь мало что меняется. И среди студентов, и среди
магистрантов, и среди аспирантов есть очень толковые молодые ученые, и
это позволяет надеяться на то, что с филологией как наукой у нас все
будет в порядке. Она не исчезнет из нашей жизни. И будет развиваться
своим путем. Каким? Угадать трудно. - Много ли вы путешествуете? В каких странах вам нравится
больше всего? Где вы побывали недавно, был ли визит связан с наукой?
Может быть, вас что-то особенно порадовало или удивило?
- Я бы не назвала свои довольно частые поездки в разные города и страны
путешествиями. Это именно поездки. Не всегда они имеют научные цели и
далеко не все мои поездки заграничные. Я много и часто езжу в российские
города как университетские (Великий Новгород, Тверь, Ярославль,
Петрозаводск, Магнитогорск и др.) на конференции, защиты диссертаций,
оппонирование. И я вижу, что везде есть люди, для которых гуманитарные
занятия – главная цель жизни и любимое дело. И это неистребимо. Что же
касается поездок за границу – то, да, в 1990-е годы я не раз преподавала
(обычно по семестру) и выступала с докладами в американских
университетах. Была в Финляндии, регулярно бываю в Латвии и в Эстонии,
конечно. Преподавание в другой, иноязычной студенческой среде –
интересный и очень полезный опыт. Всегда возвращаюсь обогащенной.
Мои последние заграничные путешествия – Париж и его северные предместья
(это был редкий случай чудесной недельной прогулки) и Нью-Йорк, где
бываю часто по семейным обстоятельствам. - Вы востребованный специалист не только в России, но и за ее
пределами. Преподавали в Эстонии, Латвии, Финляндии, а также в
нескольких городах Америки, однако жизнь свою связали именно с
Петербургом. Представляете ли вы свою жизнь вне этого города?
- Мне трудно сказать, насколько применимо ко мне определение
«востребованный специалист». Что же касается того, представляю ли я себя
в другом городе и в другом университете, то да. А почему бы и нет? Я
жила и преподавала в разных местах, и вполне допускаю возможность жизни
как в каком-либо провинциальном русском городе, так и в заграничном
университете. Никогда не думала, что стану профессором Петербургского
университета. Мне такое и в голову не могло прийти. Но вот так
получилось. И я не жалею об этом. А Петербург, конечно, прекрасен,
несмотря на нечеловеческий его климат и, к сожалению, не самое лучшее
состояние, в котором он находится. Правда, последние годы если не весь
город, то хотя бы его центр более или менее приведен в порядок. А я для
нас, филологов, еще очень важны его богатейшие библиотеки.
- Вы ученый с широчайшим кругом интересов. Как вы выбираете
темы для своих исследований? Расскажите, пожалуйста, о своей последней
книге.
- Ну, да, пожалуй, вы правы: библиографический список моих работ
свидетельствует если не о широчайшем, то, по крайней мере, довольно
разнообразном круге моих занятий – от древнерусской литературы до XX
века, от чисто литературоведческих проблем до вопросов фольклора,
этнографии, антропонимики, культурологии… А темы… темы как-то возникают
сами. И порою (хотя и не всегда) вытекают одна из другой. Так, все мои
книги, по существу, возникли из одного зерна. Еще в конце 1970-х годов я
стала заниматься «Повестью о Фроле Скобееве» (это рубеж XVII – XVIII
веков) и обнаружила важность для нее святочного мотива: действие повести
происходит на святках. Написала небольшую книжку.
Святочная тема породила во мне интерес к святочному рассказу,
колоссальному корпусу текстов, посвященных событиям, произошедшим на
святках и печатавшихся, главным образом, в святочных и рождественских
выпусках периодических изданий. Этим в те годы еще никто не занимался.
Тема оказалась очень интересной. В результате получилась моя докторская
диссертация, переработанная в книгу о становлении жанра русского
святочного рассказа. В процессе этой работы я обратила внимание на
большую группу текстов о рождественской елке, и, как оказалось, русская
елка, ее история никогда не была предметом специального исследования.
В результате получилась книга «Русская ёлка: история, мифология,
литература». Месяц назад она вышла вторым изданием. Из той же святочной
темы выросла у меня еще одна книга – о культурной истории имени
Светлана. Этим именем Жуковский назвал свою «святочную» балладу. Имя
героини баллады понравилось читателям, но крестить девочек Светланами
было нельзя: его не было в православных святцах. И только после
революции 1917 года оно стало распространяться, а позже входить в моду,
так что в 1960-х годах стало одним из самых употребительных женских
имен. Из чисто «литературного» имени оно превратилось в обычное,
общеупотребительное имя. Вот так и получились четыре моих книжки.
Работать над ними было чрезвычайно интересно. И я, несмотря на то, что
знаю их недостатки, сама их люблю. Ну, а статьи часто вырастали из
докладов, лекций, конференций и пр. Это всегда особая история. Сейчас,
например, я уже несколько лет связана с изданием полного собрания
сочинений Н. С. Лескова – замечательного и, к сожалению, еще мало
изученного и далеко не полностью изданного писателя. - Какие книги вам нравятся как читателю, а не как исследователю, возможно ли вообще для вас подобное деление?
- Подобное деление, конечно, возможно. Одни люди любят детективы и
читают по преимущественно их, другие – научную фантастику, третьи,
допустим, семейные романы. Что же касается меня, то я, кажется, осталась
в XIX веке и больше всего люблю читать и перечитывать русскую классику.
Тем более что последние два десятилетия я преподаю XIX век, и мне все
время приходится, так сказать, по долгу службы перечитывать романы
Толстого и Достоевского, рассказы и повести Чехова и пр. И надо сказать,
что каждое такое перечитывание – это новое чтение.
XX век от меня дальше. Но, разумеется, многих авторов (особенно поэтов)
я очень люблю. Сложнее складываются мои отношения с постмодернизмом,
который в меня никак «не входит». Я признаю талант таких писателей как
Виктор Пелевин и особенно Владимир Сорокин, но мне в голову не приходит
перечитывать их. Это не мое. Я осталась где-то в XIX веке. Он мне ближе.
Что я еще очень люблю – это читать детям. Я всегда много читала своим
детям, а потом – внукам. Отсюда знание и любовь к целому ряду
произведений детской литературы, как русскоязычной, так и зарубежной.
Чтение вслух – для меня одно из самых больших удовольствий. Я глубоко
сожалею, что из нашей жизни выпал бывший когда-то распространенным
обычай семейного чтения. Мне кажется, от этого мы много теряем.
|